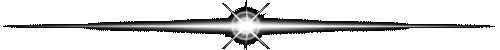|
Мало кто из зарубежных художников оказал такое сильное влияние на русскую живопись 1880-1900 годов, как австриец Ганс Макарт (1840-1884). О загадочной магии его полотен слагались легенды. Ганса Макарта считали живописцем-волшебником, способным заворожить и рядовых обывателей, и пристрастных коллег-художников.
Мастерская Макарта, расположенная в самом центре Вены, скорее походила на музей, чем на ателье художника. Туда приходили не только полюбоваться полотнами мэтра, но и напитаться особой магической атмосферой, которая царила в этой удивительной мастерской. Ведь именно здесь были созданы знаменитые холсты «Смерть Клеопатры», «Японка», гигантский холст «Чума во Флоренции» и другие. Макарт украшал свое ателье звериными шкурами и разного рода экзотическими предметами. Восток соседствовал с Западом, и, казалось, посетитель попадал в фантастическое царство. И кто бы мог подумать, что хозяин мастерской прожил всего 44 года!
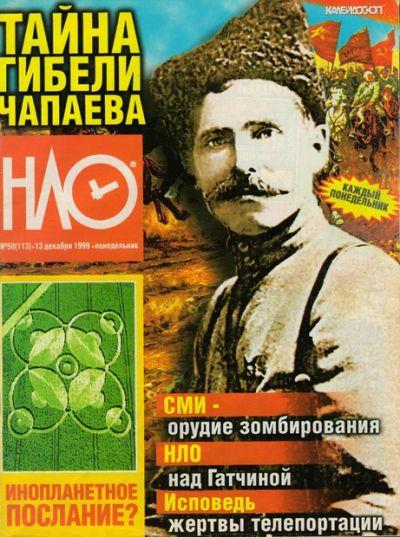 Через год после смерти Макарта живописец Рудольф фон Альт решил, что мастерскую в центре Вены надо увековечить для потомков, и написал крупноформатную картину «Мастерская Макарта», похожую больше на цветную фотографию. При жизни владельца мастерской другой живописец-академист - Эдуард Шарлемон - воспроизвел на холсте Макарта в окружении любимого им театрального антуража. Через год после смерти Макарта живописец Рудольф фон Альт решил, что мастерскую в центре Вены надо увековечить для потомков, и написал крупноформатную картину «Мастерская Макарта», похожую больше на цветную фотографию. При жизни владельца мастерской другой живописец-академист - Эдуард Шарлемон - воспроизвел на холсте Макарта в окружении любимого им театрального антуража.
Интересно, что именно в Петербурге жили своеобразные двойники австрийского мэтра. «Русским Макартом» называли живописца Константина Егоровича Маковского (1839-1915). Он тоже выписывал детали костюмов и интерьеров, придавая натурщикам изящные позы.
Любители живописи помнят полотно польского художника Яна Матейки «Коперник». Картине присущи все элементы «Макарт-стиля». Великому астроному придана выразительная поза, он вдохновенно смотрит ввысь, а его инструменты, карты и чертежи разбросаны в живописном беспорядке. Матейко был одним из самых горячих поклонников «Макарт-стиля», который особенно ярко проявился в его масштабных композициях, посвященных истории Польши.
Для этого стиля характерно обилие бронзы и фарфоровых ваз. В число обязательных атрибутов входили пальмы и фикусы в кадках. Но самой любимой деталью Макарта была лежащая на полу леопардовая шкура. Эти мотивы быстро перекочевали в русскую живопись. С начала 1890-х годов в Петербурге (уже не на полотнах, а в реальной жизни) стали появляться десятки жилых интерьеров в «Макарт-стиле». К счастью, сохранились фотографии некоторых из них.
Стихийно возникший интерес к Макарту уживался с полным равнодушием россиян ко многим другим европейским мастерам. Повальное увлечение Макартом таило в себе некую тайну. Многие художники, никогда не бывавшие в Австрии, вдруг начинали создавать портреты и даже огромные полотна в стиле Макарта. Гигантские композиции на мифологические сюжеты, например, огромный холст Генрика Семирадского «Фрина на празднике Посейдона», содержали в себе скрытые подражания венскому мэтру.
Одна из дочерей художника К.Е.Маковского, Елена, после кратковременного обучения живописи у И. Е. Репина переехала в Вену и впоследствии вышла замуж за скульптора Рихарда Лукша. Елена Константиновна Лукш-Маковская (1882-1967) быстро освоилась на родине Макарта, словно сама судьба предназначила ей жить в Австрии. Насмотревшись на картины своего отца (на нескольких из них фигурирует и она сама), Елена Маковская всерьез потянулась к знакомству с австрийской культурой. И ей ответили взаимностью австрийцы, которые по праву считают ее своей художницей.
После революции 1917 года венского мэтра стали называть в России салонным, буржуазным живописцем. Интерьеры жилых квартир в «Макарт-стиле» разворовывались и просто уничтожались. Большевиков оттолкнуло от знаменитого художника еще и то, что именно в его стиле были выполнены некоторые портреты последней русской царицы Александры Федоровны и членов царской семьи. Наблюдалось и еще более загадочное явление: даже фотографии семьи последнего российского императора приобретали поразительное сходство с макартовскими холстами!
В некоторых домах Ленинграда вплоть до семидесятых годов нашего столетия чудом сохранились интерьеры в стиле Макарта. Казалось, что призрак живописца не желает покидать город на Неве, пусть даже и переименованный в Ленинград. Неслучайно ленинградцы испытывали странные чувства при посещении коммунальных квартир, в которых уже не было ни шкур, ни огромных фарфоровых ваз, ни старинной живописи.
Возникает впечатление, что душа художника не только переселилась в Петербург, но еще и стала своего рода хранителем судеб некоторых его последователей. Так произошло, например, со знаменитым живописцем Владиславом Измайловичем. Хотя он и был приверженцем «старорежимной» культуры, но после революции не подвергался преследованиям, как многие живописцы-академисты, а мирно дожил свой век и даже преподавал в художественных школах.
Андрей ДЬЯЧЕНКО

|