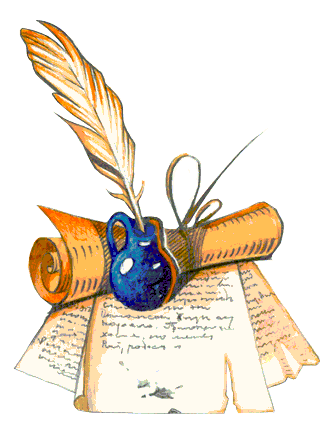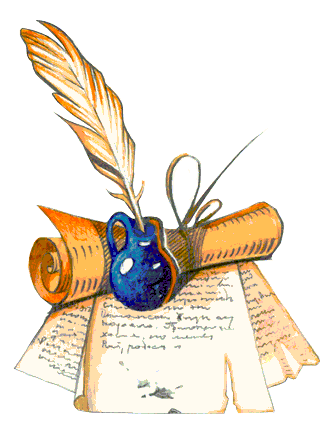|
Глава I.
ГОДЫ УЧЕНИЯ
Стр. 5
О детстве и юности Ивана Лепехина известно очень мало, но что-то все же известно. По кратким записям, обнаруженным в делах академической гимназии, а также по некоторым заметкам, которые были написаны его друзьями и многочисленными учениками, можно представить себе, как два столетия назад 10-летний мальчик, сын простого солдата, начал свой очень трудный и даже многострадальный для человека, имеющего «худородное» происхождение», путь в науку, о котором с глубоким чувством сказано в известных строках некрасовского стихотворения:
Ноги босы, грязно тело
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь
Иван Иванович Лепехин родился в Санкт-Петербурге 10 сентября 1740 года.
О его родителях сведений почти не сохранилось. Известны скупые строки, написанные другом и биографом его Н. Я. Озерецковским: «Прешло много предков Лепехина, которые подвизались за Отечество в военных ратованиях. На том же поприще оставался один из их рода, от которого произошел Лепехин…». Как пишет далее Озерецковский, отец Лепехина, солдат Семёновского полка, являлся однодворцем, и потому «не имел средств, нужных для воспитания сына своего, в котором, тем не менее, усматривал способность и большую охоту к наукам». Невзирая ни на что, именно отец открыл ему прямой путь в гимназию академии наук.
Весной 1751 года Иван Лепёхин поступил наконец в академическую гимназию.
В отысканном в архивах указе о новом ученике сообщалось: «От роду ему 10 лет, не из дворян, сын солдатский, российской грамоте и писать обучен»… Проверив знания мальчика, ректор гимназии академик С. А. Крашенинников отправил его на занятия в класс.
Два уцелевших в архиве Академии наук рапорта Крашенинникова рассказывают нам о первых днях пребывания Лепехина в гимназии. В одном из них сообщается, что новый ученик кроме грамотыне обучался ничему, и приступил к занятиям по немецкому языку и арифметике. В другом, написанном спустя три с половиной месяца, говорится о прилежании мальчика и похвальной понятливости, и мообщается о том, что он, без всякого сомнения, достоин быть учеником гимназии на жалованье.
Академическое начальство определило: быть оному Лепехину при той гимназии учеником с жалованьем по двенадцати рублей в год.
Учрежденные по замыслу Петра I гимназия и университет при Академии наук сыграли большую роль в истории русской науки. В XVIII столетии многие русские академики были питомцами этих учебных заведений. За расширение доступа в гимназию учеников из непривилегированных сословий страстно боролся гениальный Ломоносов.
В последние два года пребывания Лепехина в гимназии Ломоносов возглавлял и гимназию и университет.
Внутри гимназии сословные различия были выражены достаточно «наглядно». Всего за год до поступления в нее Лепехина в каждом классе были заведены специальные дворянские столы и лавки: «Знатных чинов людей детям сидеть за особливым столом, а которые не знатных отцов дети, тех особливо отделить».
Помещики избегали все же отдавать своих детей в академическую гимназию. Ученая карьера считалась недворянским делом. Академическому начальству приходилось принимать учеников из непривилегированных сословий. Так появились в стенах академической гимназии и университета учащиеся «худородного» происхождения: дети сельских дьячков, придворных музыкантов, семеновских и преображенских солдат. В том же 1751 г., когда начались годы учения И. И. Лепехина, двум выдающимся по способностям студентам, ученикам М. В. Ломоносова, было присвоено ученое звание адъюнкта. О детстве и юности этих студентов можно сказать почти теми же словами, что и о детстве и юности Ивана Лепехина, впоследствии их близкого друга на протяжении нескольких десятков лет. Об одном из них – Семене Кирилловиче Котельникове – в «Списке служащих при имп. Академии чинам», составленном в 1794 г., уже в то время, когда Котельников был стариком, мы читаем такие строки: «Семен Котельников, вышней математики (профессор), имеет в смотрении библиотеку и кунсткамеру; 66 лет. Солдатский сын. Деревень и крестьян не имеет».
Котельников, сын преображенского солдата, и Протасов, проведший свое раннее детство в казармах Семеновского полка, за 10 лет до Лепехина одновременно переступили порог академической гимназии и вместе учились потом в университете. Годы учения достались им столь же нелегко, как и Лепехину. Тяжелым, подчас мучительным был путь в науку для тех, о ком в делах академической канцелярии писалось все теми же скупыми словами: «Солдатский сын. Положить ему жалованье 12 руб. в год».
Жалованье, положенное гимназистам, было крайне скудным. Солдатскому сыну Лепехину, вероятно, приходилось терпеть немало лишений. В одном из донесений М. В. Ломоносова, адресованным академическому начальству, мы читаем, что гимназисты ходили «…в бедных рубищах, претерпевали наготу и стужу, и стыдно было их показать посторонним людям. Притом же пища их была весьма бедная и один иногда хлеб с водой».
Сам Ломоносов в юности, будучи учеником Заиконоспасской школы, испытывал подобные лишения. Он вспоминал об этом времени в одном из писем: «Имея жалованья один алтын в день … нельзя было иметь в день на пропитание больше как за денежку хлеба и на денежку квасу, протчее (одна денежка) на бумагу, на обувь и все другие нужды. Таким образом я жил пять лет и наук не оставил».
Таким же образом Лепехин прожил девять лет.
Гимназия и университет помещались на Васильевском острове в доме Строгановых, нанятом Академией. Попасть с Васильевского острова в другие части города неимущим гимназистам было далеко не просто. За проход по мосту через Неву взималась хотя и небольшая, но все же плата – «мостовые деньги». А денег кое-как хватало лишь на скудное питание. Академическое начальство дважды безуспешно возбуждало ходатайство об освобождении учеников гимназии от уплаты «мостовых» денег за проход через Невский мост.
Состав учителей гимназии был весьма разнообразен. Одни из них по-настоящему любили свое дело и своих питомцев. Другие принадлежали к числу учителей, увековеченных Фонвизиным в сатирическом образе Вральмана – невежественного иноземца, не смыслившего ничего в тех науках, которые он преподавал. Фонвизин, обучавшийся несколько позднее, чем Лепехин, в гимназии при Московском университете, в своих воспоминаниях красочно повествует об учителях такого рода. Один из них, обучавший молодых студентов премудростям латыни, по воспоминаниям Фонвизина, так готовил к экзамену своих учеников:
«Накануне экзамена… учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, - говорил он, - но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значут пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, - продолжал он, ударяя по столу рукою, - извольте слушать всё, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете…»
Не лучше был и учитель географии. Экзамен по этому предмету, как вспоминает далее Фонвизин, вообще окончился конфузом. Один из учеников на вопрос, куда течет Волга, ответил: в Черное море, а другой поправил его – в Белое. А будущий автор «Недоросля» на этот же вопрос чистосердечно сказал: - Не знаю.
В литературе XVIII в. не сохранилось воспоминаний, которые повествовали бы о «вральманах» академической гимназии. Известно, все же, что подобные, и еще более неприглядные, учителя и там попадались. В первые годы пребывания Лепехина в гимназии одной из самых ненавистных и зловещих фигур для гимназистов был конректор (помощник ректора) Штенгер, немец, не разумевший ни слова по-русски и истязавший своих учеников. О нем имеется выразительная запись в протоколах академической канцелярии от 31 октября 1752 г. «Сего числа профессор университета, ректор и гимназии инспектор г-н Крашенинников репортом канцелярии представлял, коим образом конректор Штенгер поступал с учениками в наказании, увеча их палкою так, что один из них, Илья Аврамов, около двух недель был болен, о чем Крашенинников доносил словесно в канцелярии, и ему, Штенгеру, за то учинен выговор и запрещено отнюдь не употреблять трости; но он, Штенгер, сего октября 30 числа ученика Введенского не токмо увечил своей тростью, но и глаз оною подшиб опасно».
В рапорте С. П. Крашенинникова говорилось далее, что «от таких наказаний не столько исправление учеников, сколько вреда ожидать должно… Такие увечья могут в них охоту к наукам угасить и здравию молодых оных детей неисцельный вред нанесть и великому ущербу ожиданной от них пользы… И требовал он, профессор Крашенинников, чтобы его, Штенгера, от таких предосудительных своевольств унять, и за ослушание команды положить на него штраф, чтобы как ему, так и другим впредь быть преслушиком не повадно было. Ежели же положенного штрафа нести он не пожелает, то Академии не много убытка будет, когда он, Штенгер, службу оставит, ибо на его место много достойнейших его и искуснейших из российских студентов…».
Не «педагогам» типа Штенгера, а совсем другим, подлинно преданным делу воспитания людям, гимназия была обязана тем, что из ее стен вышли академики, составившие гордость отечественной науки XVIII в., такие ученые, как С. К. Котельников, А. П. Протасов, И. И. Лепехин, Н. П. Соколов, В. Ф. Зуев, В. М. Севергин.
В биографических материалах о И. И. Лепехине мы не найдем прямого указания на то, кто из учителей и руководителей гимназии оказывал на него особе влияние, кто из ученых того времени служил для него живым примером и образцом. Попробуем предположительно ответить на этот вопрос.
Представленное в 1763 г. в академическую канцелярию прошение Лепехина, студента университета, свидетельствует о том, что еще ранее, в стенах гимназии, он твердо выбрал свой путь в науке. «Я… чувствовал в себе издавна особую склонность к натуральной истории, - пишет Лепехин, - но за неимением в здешней Академии наук такого профессора, который бы мог обучать сей науке, не мог в оную вступить. Однакож, в ожидании случая напоследок апликовать (посвятить) себя единственно к помянутой науке, ведая, что к будущему моему лучшему в оной успеху не токмо много способствует, но и совершенно нужна химия, вступил я в оную; в ней теперь… у профессора Лемана и упражняюсь».
Профессора «истории натуральной» не было в университете, когда Лепехин стал студентом, но в гимназические свои годы он был хорошо знаком с таким профессором – Степаном Петровичем Крашенинниковым – первым наставником, с которым встретился когда-то в классе десятилетний мальчик. Затем Лепехин знал его как ректора гимназии более четырех лет.
Степан Петрович Крашенинников, друг Ломоносова, участник Второй Камчатской экспедиции, был, по словам биографа, «из числа тех, кои ни знатною природою, ни фортуны благодеянием не предпочтены, но сами собою, своими качествами и службою произошли в люди».
Двадцатидвухлетним молодым студентом Академии он в 1733 г. был прикомандирован к академикам, отправлявшимся для изучения Сибири, и «сразу выделился своими способностями и рвением к науке» (Ломоносов).
Трем академикам – Гмелину, Миллеру и де-ла-Кройеру – было предписано исследовать Камчатку. Один из них, астроном де-ла-Кройер, невежественный пьяница и вымогатель, как оказалось, вообще был непригоден к каким-либо серьезным исследовательским работам. Двое других, Гмелин и Миллер, широко образованные ученые, немало сделали для изучения Сибири, но на Камчатку ехать убоялись. Желая создать видимость того, что они не отказываются от поездки, академики «рассудили… за благо послать… наперед себя надежного человека… и в сию посылку выбрали г. Крашенинникова». А сами после всяческих хлопот добились разрешения туда не ехать. Так студенту Степану Крашенинникову довелось проводить на Камчатке научные работы, предназначавшиеся для целого отряда. Работы эти продолжались четыре года и обессмертили имя Крашенинникова в истории отечественной и мировой науки. Им было составлено первое всестороннее географическое описание Камчатки, охватывающее и природу ее, и жизнь населяющих ее народов.
Жил Крашенинников сравнительно недолго. Он умер в 1755 г. Сорока пяти лет. В последние годы жизни – был ректором академической гимназии и университета. Скудные данные, сохранившиеся о педагогической деятельности Крашенинникова, указывают на внимательное и любовное отношение знаменитого ученого и путешественника к его молодым питомцам (*1). Крашенинников сам прошел в юности подобную школу. Он по собственному опыту знал, что такое нужда и «худородное» происхождение. Обиду, которую кто-либо нанес без причины студенту, он воспринимал как нанесенную достоинству учебного заведения и лично ему самому.
Выше приведен характерный рапорт Крашенинникова о Штенгере. Не лишне привести еще один подобный документ.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Такого отношения ему не мог простить даже через сто лет реакционный историк академической гимназии и университета мракобес граф Д. А. Толстой – министр народного просвещения при Александре III. Всячески восхваляя иностранцев в академии XVIII в., Д. А. Толстой клеветнически писал, что Крашенинников «со студентами поступал самым безобразным образом» и в подкрепление этого смог привести лишь факты, вроде следующего: Крашенинников, ненавидевший разнузданность и разврат, приказал высечь розгами Баркова, автора скабрезных стихов.
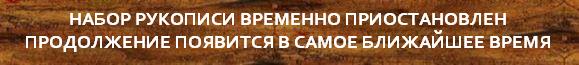
Обновлено
3.6.2019 г.
|