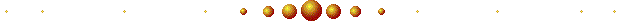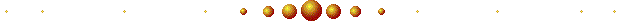До сих пор не возьму в толк, почему выбор моих родителей пал на музыку... В нашем роду никогда не водилось музыкантов, не говоря уже об отце: старику медведь наступил на ухо. В дни праздничных застолий, после двух-трёх рюмок в нём просыпается Марио Ланца: встав из-за стола, папа выбрасывает перед собой руки на манер оперной примадонны и начинает петь. Я затрудняюсь передать это словами, но тем, кто захочет узнать нюансы папиного вокала, могу дать совет: попробуйте спеть "Калинку" на мотив шопеновского "Траурно марша". Если ваше терпение не иссякнет после первых трёх тактов, можете поздравить себя с успехом: именно так звучат его "арии".
Мама тоже едва ли выдержит экзамен в консерваторию. Правда, по-своему она "музыкальна". У неё сильный голос, и когда она стоит в очереди за маслом, он слышен далеко на подступах к магазину. Но всякие там сюиты, концерты и симфонии действуют на маму, как снотворное: она часто моргает и забывается сном, как пенсионер в почетном президиуме. В общем, моя наследственность безупречна. И всё-таки, вопреки законам генетики и против собственной воли, я был продан в рабство роялю и нотам.
Вам не понять и десятой доли моих переживаний: чтобы изведать горькую участь вундеркинда, нужно самому побывать в его шкуре.
Честное слово, меня гложет черная зависть к тем, кого природа обделила слухом и проворством пальцев. От рождения обремененный этими достоинствами, я бы многое отдал в пору детства за счастливый удел моих сверстников, не заклейменных проклятьем музыкальных дарований.
Мой путь в искусстве был усеян терниями. Мало того, что мне приходилось постоянно сносить ядовитые издевки дворовой братии, осуждавшей заниятие музыкой. Но и дома, среди людей, на чьё сочувствие я был вправе рассчитывать, я наталкивался на стену непонимания. Мои робкие жалобы на усталость и просьбы сократить дозу ежедневной пытки музыкой домочадцы встречали как посягательство на семейный престиж.
И конечно, порок не оставался безнаказанным. Однажды мама со свойственной женщинам изобретательностью, ввела в обиход новый способ контроля за моими занятиями. В урочный час она усаживалась возле меня у пианино и начинала вести счёт упражнениям. Механизм этой процедуры до гениальности прост. Вы берёте лист бумаги и уснащаете его частоколом палочек в зависимости от числа заданных упражнений.
С каждой исполненной гаммой взмах маминого карандаша уничтожал одно из звеньев этого сооружения, пока, наконец, на листе не оставалось ни одной неперечёркнутой палочки. Только тогда бухгалтерия прекращала учёт до очередного занятия. Но стоило мне хоть на мгновение отвлечься от постылых экскрсисов или - упаси боже! - взять фальшивую ноту, и на мой затылок мгновенно обрушивалась десница домашнего педагога.
Чтобы представить моё состояние в часы музыкальных штудий, попробуйте воскресить в памяти ту средневековую пытку, когда на темя жертвы в течение долгих дней методично каплет вода. Точь-в-точь такие же муки испытывал я, покорно исполняя капризы родителей. И в какие только тяжкие не приходилось пускаться, чтобы дать отдых душе, утомлённой фортепианными руладами!
Следуя по стопам Станиславского, я имитировал рези в желудке или разыгрывал внезапные приступы голода до тех пор, пока впечатленные моим искусством родители не освобождали меня от музыкальной повинности.
В такие часы я вовсю упивался радостью забв, доступных любому сорванцу: читал "Записки о Шерлоке Холмсе", мечтал стать знаменитым хоккеистом или мастерил рогатку. Застав меня однажды за этим занятием, мама развенчала миф о моей болезненности, и тогда оба родителя взялись за моё музыкальное образование с удвоенным рвением.
Нужно ли продолжать летопись моих злоключений? Воображение легко допишет портрет тщедушного , безответного существа, каким я пришёл в последний класс музыкальной школы.
Сверкнув гаснущей кометой на выпускном концерте, я так прочно утвердился в антипатии к роялю, что уж и не припомню, когда садился за него в последний раз.
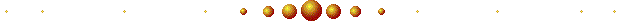
Закончив рассказ, папа в поисках сочувствия повернулся в кресле, и встретил растроганный, понимающий мамин взгляд.
Пользуясь минутным замешательством родителей, я мельком глянул в окно: в хоккейной коробке посреди двора, счастливые и бесконечно далёкие от искусства гоняли шайбу мои приятели.
Смахнув слезу, я повернулся к роялю и с остервененьем вонзил пальцы в ненавистную белизну клавиш. О, жалкий жребий!
КОНЕЦ ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ ИСТОРИИ
|
|
|