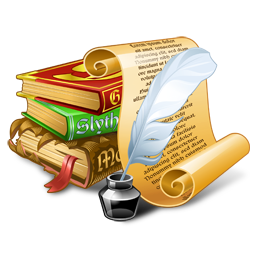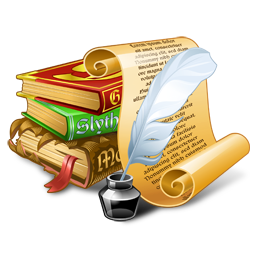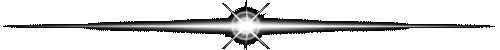|
О трех романах Михаила Булгакова
Константин Симонов
В эту книгу входят «Белая Гвардия» и «Театральный роман», ранее включенные в однотомник прозы Михаила Булгакова, выпущенный издательством «Художественная литература» в 1966 году, и роман «Мастер и Маргарита», публикуемый в последней прижизненной редакции автора.
 Михаил Афанасьевич Булгаков, родившийся в 1891 году, умер незадолго до Великой Отечественной войны после тяжелой и мучительной болезни – склероза почек, не дожив до пятидесяти лет. Умер в расцвете своего таланта, чему свидетельством является его последняя книга – «Мастер и Маргарита»; уже смертельно больной и, как врач, твердо знающий, что дни его сочтены, он вносил в рукопись последние поправки, диктуя их своей жене и другу Елене Сергеевне Булгаковой.
Михаил Афанасьевич Булгаков, родившийся в 1891 году, умер незадолго до Великой Отечественной войны после тяжелой и мучительной болезни – склероза почек, не дожив до пятидесяти лет. Умер в расцвете своего таланта, чему свидетельством является его последняя книга – «Мастер и Маргарита»; уже смертельно больной и, как врач, твердо знающий, что дни его сочтены, он вносил в рукопись последние поправки, диктуя их своей жене и другу Елене Сергеевне Булгаковой.
При жизни Булгакова были опубликованы первая часть его романа «Белая гвардия», книга его фантастической и сатирической прозы, цикл рассказов «Записки юного врача» и его многочисленные газетные фельетоны, появившиеся в печати главным образом в первые годы нэпа.
На сценах театров в разное время ставилось несколько его драматических произведений; среди них – классическая инсценировка «Мертвых душ» Гоголя и написанная по мотивам романа «Белая гвардия» пьеса «Дни Турбиных», так же, как и «Мертвые души» надолго удерживавшаяся в репертуаре МХАТа.
Остальное – пьесы «Последние дни», «Иван Васильевич», «Бег», вторая часть романа «Белая гвардия», романы «Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита» - было напечатано в 50-60-е годы; и с их публикацией талант Булгакова занял в сознании читателей принадлежащее ему место, которое нет нужды ни преуменьшать, ни преувеличивать.
Включенные в этот том романы Булгакова были написаны им между 1923 и 1940 годами. Роман «Белая гвардия» писался в двадцать третьем – двадцать четвертом году и был частично опубликован в двадцать пятом. Созданная на материале романа пьеса «Дни Турбиных» писалась в двадцать шестом. Работа над романом «Мастер и Маргарита» заняла двадцать лет – с двадцать восьмого по сороковый год. Создание не законченного автором «Театрального романа», который писался в тридцать шестом – тридцать седьмом году, относится к этому же периоду.
Напомнив о времени, когда создавались все три романа Булгакова, помещенные в этом томе его прозы, скажу о своем понимании их ценности и их особенностей.
«Белая гвардия» была первым крупным прозаическим произведением Булгакова. Время, когда он писал роман, было отделено всего тремя-четырьмя годами от падения Перекопа и одним-двумя годами от освобождения Владивостока, положившего конец гражданской войне и интервенции.
Я напоминаю о краткости дистанции между той бурей гражданской войны, о которой написан роман, и временем его создания, потому что это существенно и для понимания самого романа, и для понимания резкости критических оценок, которыми были встречены при своем появлении и опубликованная в журнале первая часть «Белой гвардии», и, несколько позже, пьеса «Дни Турбиных».
Для осмысления авторской позиции самого Булгакова и тех перемен, которые вносило в нее время, надо обратить внимание на дальнейшее развитие «Белой гвардии», которое заметно и в «Днях Турбиных», и в особенности – в написанной через два года после них пьесе «Бег».
Духовная катастрофа, происходившая с той частью русской интеллигенции, которая привязала себя к колеснице белого движения, с большой силой была разработана Булгаковым уже в «Белой Гвардии». И дело не только в том, что в романе перед нами развертываются страницы военного поражения. Дело в том, что на фоне их развертываются и страницы поражения духовного, что к концу романа все усиливается ощущение безвыходности, бесперспективности тех обращенных в прошлое идеалов, которыми продолжают жить герои романа. Рядом с физической их гибелью соседствует и гибель их идеалов. А сама безвыходность положения начинает толкать их на поиски выхода. И эти поиски, едва-едва намечающиеся в «Белой Гвардии», заметно усиливаются в «Днях Турбинных», а в пьесе «Бег», к концу ее, превращаются уже в главную проблему, которую пытаются решить для себя не только безвольно захлестнутый волной эмиграции Голубков, но до последнего часа гражданской войны с оружием в руках исступленно воевавший против народа Хлудов.
В моем представлении, хотя Булгаковым в конце романа «Белая гвардия» и поставлена точка, на самом деле роман все-таки не окончен. Некоторые его сюжетные линии заставляют думать о случайности этой точки, о том, что первоначальные замыслы автора выходили далеко за пределы романа и что многим его героям предстояло еще жить и действовать.
Для меня это почти несомненно. Не потому, что я располагаю какими-то биографическими или текстологическими доказательствами этого, а потому, что это заложено в самом тексте романа, в самой его композиции, во многих его сюжетных линиях, в сущности, оборванных на полуслове.
И когда я думаю о том, чем бы мог завершиться этот роман, будь он завершен, передо мной мысленно возникает «Бег», картины последних боев, бегства, катастрофы, распада, эмиграции и возвращения на родину тех, кто, испив чашу до дна, решился, как Голубков, или посмел, как Хлудов, вернуться обратно – в Россию, ставшую советской Россией вопреки всему, что они сделали для того, чтобы она не могла ею стать.
Однако не будем забегать вперед. Да, несколько лет спустя Булгаков напишет пьесу «Бег», в которой он скажет обо всем этом.
Но в 1924 году он поставил в романе «Белая гвардия» точку именно там, где она стоит.
Разоблачены духовное убожество, растленность, антинародная сущность верхушки контрреволюции.
Показан трагизм положения интеллигентов, одетых в офицерские кителя и юнкерские шинели, людей, силою своего прошлого, силою своих классовых и житейских связей впрягшихся в антинародное дело.
Уже возник вопрос – а как же быть дальше, неужели и дальше продолжать защиту того дела, которое все чаще и чаще кажется безнадежным?
Но ответа на этот вопрос в романе нет. Вместо него – точка, поставленная, быть может, как раз потому, что сам автор внутренне еще не был готов ответить на этот вопрос так, как он ответит на него потом в «Беге».
Хотя и в «Беге» полного ответа на этот вопрос все-таки не будет – ибо для того, чтобы показать всю силу разочарования человека в одних идеях, нужно показать всю силу других идей, опрокинувших в его душе прежние. Не только силу обстоятельств, но и силу идей.
Роман «Белая гвардия» не только талантливая проза, а еще и очень любопытный документ эпохи, - в нем с предельной честностью отражены взгляды, существовавшие у автора к тому времени, когда он писал свою книгу, на ту эпоху, которую он изобразил в ней.
В 1925 году, сразу после публикации в журнале первой части «Белой гвардии», Н. Осинский писал на страницах «Правды» о Булгакове:
«Претензии автору за то, что он белых юнкеров показал не злодеями, а обыкновенными юнцами из определенной классовой среды, терпящими крушение со своими дворянско-офицерскими «идеалами», предъявлять не приходится. Но чего-то, изюминки какой-то не хватает, а не хватает автору, печатающемуся в России – писательского мировоззрения, тесно связанного с ясной общественной позицией…»
Пройдет пятнадцать лет – и в 1940 году, после смерти Булгакова, мысленно оглядывая его путь, одним из первых этапов которого была «Белая гвардия», А. Фадеев скажет об ее авторе:
«И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного: хуже было бы, если бы он фальшивил».
Мне думается, что оба эти высказывания, отделенные друг от друга пятнадцатью годами, многое объясняют и в жизни, и в творчестве Булгакова.
И оба их небесполезно вспомнить, приступая к чтению романа «Белая гвардия» сейчас, через полвека после того, как он был написан.
Если я говорил о незавершенности «Белой гвардии» как о своем писательском ощущении, как о догадке, имеющей некоторые не столько внешние, сколько внутренние психологические основания, то «Театральный роман» - книга, вне всяких сомнений, не дописанная до конца.
И дело не только в том, что она имеет подзаголовок «Записки покойника» и обрывается посредине фразы – такая концовка может оказаться и литературным приемом, этому есть примеры. Дело в том, что есть много свидетельств людей, знавших со слов самого Булгакова и то, что он собирался продолжать повествование, начатое в «Театральном романе», и даже то, какие именно новые сцены и главы были им задуманы.
И, однако, при этом «Театральный роман» у меня, например, не оставляет горького ощущения незаконченности.
В моем представлении это вообще скорей не роман, а то сатирические, то юмористические сцены из московской театральной жизни конца 20-х – начала 30-х годов.
Они написаны с таким блеском и юмором, что, конечно, жаль с разбега останавливаться, вдруг увидев вместо следующей сцены многоточие; но ощущения незавершенности авторского замысла нет. Просто он, этот замысел, реализован на меньшем количестве сюжетных поворотов, чем это, очевидно, замышлялось вначале.
Незавершенность «Театрального романа», как мне кажется, объясняется не какими-либо причинами внешнего свойства, а причиною внутренней: тем, что Булгаков почувствовал потребность вернуться к той своей главной работе, которую он прервал и которую ему было необходимо завершить – к «Мастеру и Маргарите».
И сделать это Булгаков мог без насилия над собой, ибо все то, ради чего писался «Театральный роман», в сущности, уже было выражено в его написанных к тому времени сценах.
Столкновение крупных талантов и высоких принципов большого искусства с такими внутритеатральными проблемами, как человеческое и актерское тщеславие, как коленопреклонение перед авторитетами, как непонимание неотвратимости смены поколений, как связанная с пристрастиями и антипатиями борьба за роли, и многое другое, принижающее, стаскивающее с облаков на землю великое чудо театра, - все это Булгаков успел достаточно широко изобразить в написанных им главах романа.
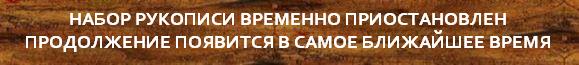

Опубликовано:
27 мая 2017 г.
Обновлено:
1 июля 2018 г.
|