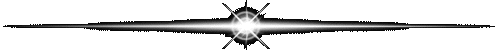|
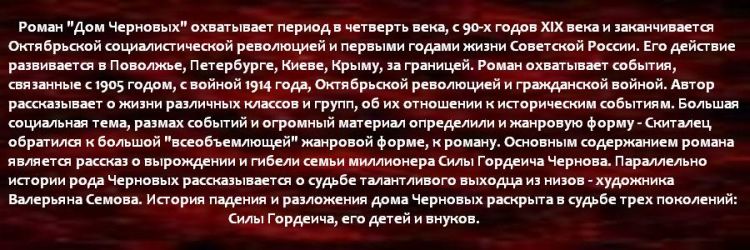
Посвящается моей жене В. Ф. Петровой.
Автор.
ЧАСТЬ I.
Глава I.
Стр. 5
В имении купца Силы Гордеича Чернова «Волчье логово» в зимний вечер состоялся семейеный ужин, за которым было изрядно выпито по весьма серьезному поводу: в этот вечер из Москвы приехал знаменитый художник Валерьян Иваныч Семов свататься за младшую дочь Силы Гордеича Наташу. Дело, по-видимому, шло на лад: художника приняли радушно, хотя еще окончательного разговора не было. За ужином говорили о посторонних предметах, больше слушали рассказы гостя, а старик зорко приглядывался к будущему зятю, наводящими вопросами экзаменуя его.
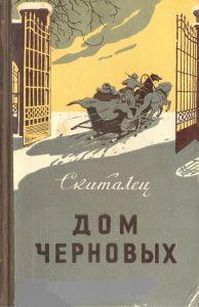 После ужина, когда члены многочисленной семьи разошлись по комнатам огромного дома в старинном дворянском стиле, с антресолями и зимним садом, Сила Гордеич пригласил Семова в кабинет. Кабинет был небольшой, но уютный, с большим кожаным диваном у стены, украшенной фотографиями беговых лошадей, с мягким ковром, застилавшим всю комнату. На письменном столе горела электрическая лампа под зеленым шелковым абажуром, а рядом был накрыт маленький круглый столик с двумя стаканами кофе и бутылкой коньяку, с ломтиками лимона на тарелке.
После ужина, когда члены многочисленной семьи разошлись по комнатам огромного дома в старинном дворянском стиле, с антресолями и зимним садом, Сила Гордеич пригласил Семова в кабинет. Кабинет был небольшой, но уютный, с большим кожаным диваном у стены, украшенной фотографиями беговых лошадей, с мягким ковром, застилавшим всю комнату. На письменном столе горела электрическая лампа под зеленым шелковым абажуром, а рядом был накрыт маленький круглый столик с двумя стаканами кофе и бутылкой коньяку, с ломтиками лимона на тарелке.
Они сидели вдвоем за этим столиком, продолжая начатый за ужином разговор.
Сила Гордеич был маленький, сухонький старичок в опрятной пиджачной паре и крахмальном воротничке, с седой головой, остриженной бобриком, с седыми, коротко подстриженными усами, чисто выбритый, с сухим, энергичным лицом, напоминавшим фельдмаршала Суворова.
Знаменитый художник – высокий молодой человек лет тридцати, в черной бархатной блузе, бледный, с длинными волосами, с маленькой эспаньолкой и веселыми, смеющимися глазами – в положении жениха чувствовал себя не совсем свободно.
Старик налил в обе рюмки коньяку и, чокнувшись, заговорил неожиданным для его фигуры густым басом:
- Выпьем-ка, брат, Валерьян Иваныч, да потолкуем! Вы за ужином-то много кой-чего нам рассказали, теперь мой черед, расскажу вам про себя… - Он выпил, крякнул и продолжал: - Род наш старинный, купеческий, отцы и деды наши купцами были. Разорялись мы и на нет сходили, и опять возрождались: потому – у нас в роду коммерческий талант. Не хвалясь, скажу: я, Валерьян Иваныч, большой коммерсант! Да-с! Имейте это в виду! Я завсегда могу деньги нажить – честно и чисто, как и до сих пор наживал. Вы знаете, как я начинал?
- Нет, - улыбаясь, отвечал художник. – Расскажите-ка! Это, наверно, интересно.
- Хе-хе-хе!.. – низким грудным смехом засмеялся старик. – Не только интересно, а пожалуй, для вас, молодых людей, и поучительно.
Он придвинул мягкое кресло поближе к собеседнику и начал:
- Вот, послушай-ка. Отец мой помер, разорившись дотла. Перед концом его жизни жили мы на мужицкий лад: сами пахали и сеяли, на базар хлеб возили. Бывало, все пойдут в харчевню, а ты купишь калач, дана возу и поешь, чтобы деньги целее были… После смерти отца стало ещё хуже: оставил он мне всего-навсего полторы тысячи… долгов! Только и всего. За долги пришлось последнего лишиться, все распродать; осталась избенка да лошаденка. Забился в деревню, притаился – ни гу-гу! В город и глаз не кажу: людей стыдно. Думаю – как жить? Ведь надо же делать что-нибудь. Работал крючником на пристани, водоливом был – не понравилось. И надумал я овцами торговать; а у самого денег ни шиша, взяться нечем. Делать нечего, отправился в город и – к дяде. Дядя был у меня купец состоятельный, но, конечно, такой, что зря деньгами не сорил. Рассказал ему, каким делом хочу заняться. Дядя для начала дал мне взаймы триста рублей. С них я и начал. Купил на все эти деньги овец и сам стал пасти их. С пастуха, Валерьян Иваныч, я начал! Бывало, пасу это я в поле овец и все думаю: как бы мне деньги нажить? Хе-хе! Осенью сам повез овец в Москву, продал выгодно, очистилась мне тысяча; я на всю тысячу – опять овец, и пошел в гору. Смотрю – годика через два у меня уже с десяток тысчонок завелось. Тут мы с братом моим покойным хлебную торговлю завели на Волге; двое орудовали, вместе и жили, попросту, без затей. Шибко мы тогда погнали дело. Случалось, брали барышу тысяч по сорок и по восемьдесят!
Старик потянулся к бутылке и, наливая в рюмки, сказал нравоучительно:
- Вот как мы наживали, Валерьян Иваныч!
- Да, у вас, по-видимому, была большая энергия. Но чем вы все-таки объясняете такой быстрый успех? Откуда были такие барыши?
- Бог его знает… - Сила Гордеич вздохнул. – Время такое было. Случалось, покупаем хлеб на одной пристани по одной цене, а перевозим прямо на другую пристань, верст за пятнадцать, - и продаем на пятак за пуд дороже; на всю-то партию и выходило тысяч пятьдесят барышу! Волга-то тогда дикая была, телеграфу никакого не знали. Первые-то пароходы на моей памяти пошли. Ну, кто посмышленее да порасторопнее других, те и наживали. И греха в этом никакого не было. Так и вырастали капиталисты. А дворяне и тогда ничего не делали, только имения свои проедали. Я, Валерьян Иваныч, открытый враг всего дворянского сословия. Ведь как? Они проживали, как говорится, а мы наживали! Они все падали, а мы все возвышались. Вот это имение и дом, где мы сейчас с вами сидим, перешли ко мне за долги от кутилы-гусара, который всю жизнь только и делал, что наследственное, не им скопленное, по ветру пускал. Мой дом в городе – это ведь тоже бывший дворянский особняк. Деньги прожить, проесть их все и пропить – ведь это великое преступление: не жалеть деньги и не любить их – это значит не уважать людей! Тот, кто рубля не бережет, сам не стоит ни гроша!
Зычный голос старика постепенно повышался.
- Деньги – это что-то такое нежное, - заговорил он вдруг полушепотом, с неожиданной теплотой и лиризмом в голове. – С ними нужно осторожно: не дотрагиваться до них, всякую пылинку с них сдувать, чтобы росли они, а не таяли; иначе ведь они живо пылью разлетятся. Любить их, беречь и лелеять нужно, нежно с ними обращаться; ведь это же что-то живое, святое, неприкосновенное, как жизнь человеческая… Ненавижу дармоедов, расточителей, разрушителей! – загремел он вдруг разряжающимся голосом. – Уважаю только тех, кто создает, кто накопляет. Идея накопления капитала - это идея великая! Ей посвятил я всю жизнь мою: самоучка, учился в уездном училище, начинал с пастуха. На себя трачу не более, чем, может быть, тратит.самый последний бедняк. Идее служу! Российский капитал воздвигаю, создаю силу, которая, может быть, в общем своем составе впоследствии все судьбы России повернет к лучшему будущему. Ведь вы подумайте, что это за сила! Каждая копейка - работай! Все - кипи! Все - возрастай! Пускай корни, накапливай силу. Капитал - это всё! Если одни растратят, другие опять должны будут с самого начала его создавать. Без этого – гибель, без этого – смерть! Все – для создания капитала, именно в нем – все начала и все концы!..
Густой голом маленького старика раздавался в ушах Валерьяна непреклонно и грозно. Художник слушал, склоняясь на локотник кресла, полузакрыв ладонью глаза, и казалось ему, что голос этот принадлежал не хилому, низенькому, седенькому старичку, сидевшему против него, а кому-то другому – исполину.
Голос умолк.
Художник очнулся и взглянул на старика. Седой, сухой и хилый старичок вздохнул и наполнил рюмку.
- Одно меня крушит, - более спокойно, низкой октавой продолжал он. – некому дело передать, преемников нет.
- Да ведь у вас уже взрослые дети, и все такие хорошие! – удивленно возразил Валерьян.
- Люди-то они хорошие, слов нет, а только что не коммерсанты: интеллигенты все! Эти капитала не наживут. Дай бог хоть бы то, что есть, сохранили… Жена воспитанием их всех перепортила; книжница она у меня, идеалистка старая, все по книгам, все по системе. Нагнала полон дом учителей – шваль всякую; им бы, как служащим людям, место свое указать, чтобы знали они его, а она их – в передний угол! Развалится какой-нибудь выгнанный студентишка и порет дичь со всякими красными словами, а сам – уж видно его насквозь – рассукин сын, блюдолиз!.. Жена моя ничего этого, бывало, не видит – слушает словеса, да мне же в лицо фыркает: «Ты, дескать, что понимаешь? Тебе бы жеребят, а не ребят воспитывать! Твое дело – деньги наживать, а вот это – люди!» Хе-хе! Вроде как увлекалась одним эдаким. А он – не будь дурак, да старшую-то дочь со двора и смани. Ну, тогда, само собой, жена моя его возненавидела. Денег за убежавшей дочерью я, конечно, не дал никаких, и мучилась она с прощалыгой десять лет, пока от него назад ко мне не сбежала. Живет теперь здесь. Ни вдова, ни мужняя жена – изломалась вся. Старший сын – больной, к делу неспособен, а младший – вроде как толстовец, не сочувствует мне, перед новыми идеями преклоняется. А того не понимает, что эти идеи придуманы специально против нас, имущего класса, чтобы нас же с наших мест спихнуть. Вот и некому дело передать… На тебя ежели посмотреть, - парень ты славный, чистый, прозрачный какой-то, насквозь тебя сразу и видно. Нет, не деловой, не практический ты человек. Не такого бы мне зятя нужно! Ну, так что поделаешь? Любимая очка! Последнее и единственное мое утешение. Ведь она у меня – любимая, Валерьян Иваныч, совсем как ребенок, и сердиться-то на нее ни за что нельзя. Не знает ни людей, ни жизни, принцессой какой-то воспитали ее. Что поделаешь? Живите уж! Об одном только прошу – не обижайте ее!
Художник вспыхнул и вскочил со стула: слова будущего тестя как бы ударили его по лицу.
- Что вы, Сила Гордеич! Да я жизнь мою за нее положу!
- Вижу, вижу. Теперь-то это так, а жизнь велика, всего бывает. Тогда и попомните мою просьбу: берегите ее, не обижайте!
Старик встал, растроганный и готовый обнять Валерьяна.
Художник тоже встал и обнял его. Они поцеловались. Потом опять сели, и купец заговорил совсем другим, деловым тоном:
- Денег Наташа будет получать по три тысячи в год… - Он махнул рукой и с шутливой строгостью зарычал: - Больше не дам ни копейки!
- А вы ничего не давайте, - внезапно возразил художник: - у меня есть годового дохода тысяч десять, нам и хватит. А если придет надобность, то, надеюсь, вы тогда Наташе не откажете.
Сила Гордеич обиженно взглянул на будущего зятя.

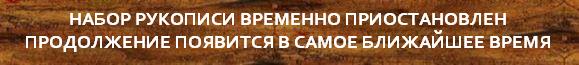
ЧАСТЬ I. ГЛАВА 2
ЧАСТЬ I. ГЛАВА 3
ЧАСТЬ I. ГЛАВА 4
ЧАСТЬ II. ГЛАВА 1
ЧАСТЬ III. ГЛАВА 1
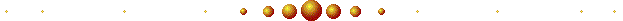
|