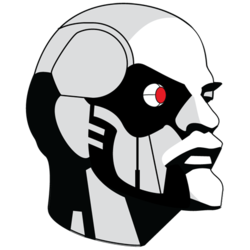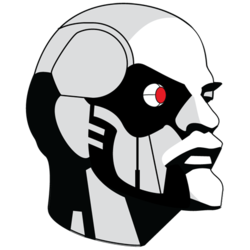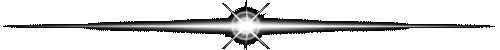История одной болезни
Окончание. Начало - в №№ 4 и 6.
Кто лечил Ленина, каковы версии относительно его болезни и смерти?
В наблюдении за здоровьем Ленина и ухода за ним в 1923-1924 годах принимало участие около сорока врачей и работников младшего медицинского персонала. Одна врачи постоянно находились в Кремле или Горках, другие участвовали только в консультациях, наблюдали за больным в течение относительно небольшого промежутка времени.
Реестр приблизительно таков:
Терапевты: Ф. А. Гетье, Г. Клемперер, П. И. Елистратов, Л. Г. Левин, О. Минковски, А. фон Штрюмпелль.
Невропатологи, неврологи, психиатры: В. М. Бехтерев, С. М. Доброгаев, О. Бумке, А. М. Кожевников, М. Б. Кроль, В. В. Крамер, М. Нонне, Г. И. Россолимо (?), Д. В. Фельдберг, В. П. Осипов, О. Ферстер, С. Э. Хеншен.
Прочие специалисты: М. И. Авербах, Н. Н. Приоров, В. Н. Розанов, Л. И. Свержевский (?), В. С. Юделович.
Медсестры: Т. М. Белякова, М. М. Петрашева, Т. П. Смирнова, Е. И. Фомина.
Санитары: З.-К. И. Зорька-Римша, Н. С. Попов, В. А. Рукавишников.
От Наркомздрава и Мосгорздрава: Н. А. Семашко и В. А. Обух. К этой же группе следует причислить Б. С. Сейсброда.
Патологоанатомы, анатомы, антропологи, прозекторы: А. И. Абрикосов, В. В. Бунак, А. А. Дешин, Н. Ф. Мельников-Разведенков.
Большая часть врачей представляла Москву, из Петрограда – Бехтерев, Доброгаев, Осипов, Фельдберг; заграница (Германия и Швеция): Клемперер, Минковски, Штрюмпелль, Бумке, Нонне, Ферстер, Хеншен, прибывший с сыном. Возглавил медицинскую корпорацию Ферстер, в его отсутствие – Осипов. Смерть зафиксировали Ферстер, Елистратов, Осипов.
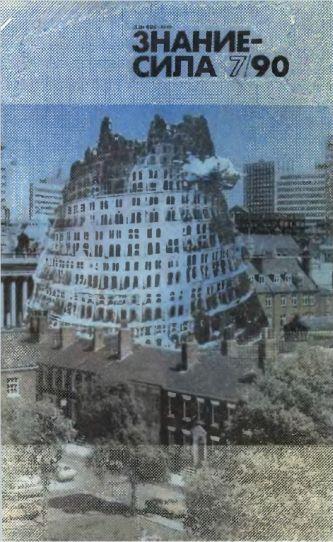 С 10 марта было установлено постоянное дежурство врачей, контролировавших каждый шаг больного. С начала сентября контроль был несколько ослаблен. 13 сентября Н. К. Крупская написала в послании В. А. Арманд следующее: «Доктора сведены до минимума». Следует сказать, что сокращение числа дежурных врачей и ослабление контроля объясняется не только некоторым заметным улучшением здоровья Ленина, но и его отрицательной реакцией. Уже в конце июля Ленин отказался общаться с логопедом С. М. Доброгаевым. Затем, по свидетельствам очевидцев, наступила и очередь О. Ферстера.
С 10 марта было установлено постоянное дежурство врачей, контролировавших каждый шаг больного. С начала сентября контроль был несколько ослаблен. 13 сентября Н. К. Крупская написала в послании В. А. Арманд следующее: «Доктора сведены до минимума». Следует сказать, что сокращение числа дежурных врачей и ослабление контроля объясняется не только некоторым заметным улучшением здоровья Ленина, но и его отрицательной реакцией. Уже в конце июля Ленин отказался общаться с логопедом С. М. Доброгаевым. Затем, по свидетельствам очевидцев, наступила и очередь О. Ферстера.
В. П. Осипов имел доступ к Ленину еще в середине октября. Относительно хирурга Розанова сведения противоречивы. Беспрепятственно входил в Горки, пожалуй, только Ф. А. Гетье. Об этом писали многие, например С. М. Доброгаев: «...У Владимира Ильича ко всем нам, лечившим его врачам, обычно устанавливалась отрицательная реакция... Только одни из врачей Ф. А. Гетье - не вызывал против себя этой отрицательной реакции больного...»
Известно несколько предположений относительно реакции Ленина на врачей. Вероятно, наиболее близок к истине был Троцкий: «...Свою беспомощность и отсутствие речи при практически полной ясности сознания прежде всего Ленин не мог не ощущать как совершенно невыносимое унижение. Он не терпел уже врачей, их покровительственного тона, их фальшивых обнадеживаний, их банальных шуточек».
Ленин еще в 1922 году болезненно относился к признакам приближающегося нездоровья. Стыдливо досадовал, что стал плохо слышать. Вернувшись в октябре 1922 года в Москву, Ленин появился на заседании СНК, к удивлению присутствовавших, в очках. Они его явно стесняли. Он вытаскивал их, надевал. и «в движениях его было что-то конфузливое».
Страдавший в связи со своей физической неполноценностью, Ленин стеснялся и ухаживавших за ним медсестер, отказываясь принимать их услуги. Еще в конце июля он «заявил решительный протест против сестринского ухода за собою, жестами, гневными движениями и головой не допуская сестер входить в свою комнату». В середине сентября Крупская известила В. А. Арманд: «Сестер отменили окончательно».
Отношения Ленина с мужчинами-санитарами, без помощи которых он обойтись ие мог, складывались нормально.
Что лечили врачи? Предлагаем в ответе четыре наиболее распространенных версии, которые в зависимости от разных обстоятельств связаны в основном с требованиями времени. Обычно в советской печати варьировались всякие разные комбинации первых 3-х версий, четвертая версия, правда, тоже не оставалась без внимания.
1. Смерть является результаом перенапряжения в работе, а также чрезмерной мозговой деятельности, достаточно тяжелых условий революционного подполья, тюрьмы, ссылки и эмиграции. В двадцатые годы отмечали регулярно, а впоследствии все реже, что совокупность этих явлений вызвала атеросклероз, приведший к смерти.
2. Смерть - результат наследственной предрасположенности Ленина к атеросклерозу.
3. Смерть - результат огнестрельной раны, нанесенной Ленину 30 августа 1918 года. В 1922 году суд над эсерами высказал убеждение, что пули были отравлены ядом кураре, иногда смерть Ленина объясняли многолетним действием этого яда.
4. Смерть - результат прогрессивного паралича, возможно, вызванного болезнью, передающейся по наследству.
В «Сообщении о болезни и кончине В. И. Ульянова-Ленина», которое было подписано О. Ферстером, А И. Абрикосным, А. А. Дешиным, В. П. Осиповым, Д. В. Фельдбергом, Б. С. Всйсбродом, Н. А. Семашко, объединялись две первые версии (1 и 2): «Данные вскрытия и история болезни устанавливают тот факт, что единственной основой болезни покойного Владимира Ильича является распространенный резко выраженный давний склероз сосудов мозга, явившийся последствием чрезмерной мозговой деятельности и в связи с наследственным предрасположением к склерозу». В составе остальных траурных материалов «Сообщение» было перепечатано в последний раз к 10-летию со дня смерти Ленина - в начале 1934 года официальный диагноз оставался в силе. При этом индивидуальные высказывания в этот период как лечащих врачей, так и представителей Наркомздрава не отступали от формулировки основополагающего документа под редакционной шапкой «Наследственность В. И. Ленина» с мнением Л. И. Абрикосова и замнаркома здравоохранения З. П. Соловьева ознакомила читателей «Рабочая Москва». К их заключению примыкали высказывания В. К. Розанова, П. И. Елистратова, Н. Ф. Мельникова-Разведенкова, других врачей. Неоднократно в связи со смертью Ленина выступал П. А. Семашко, цитируя или пересказывая официальную трактовку, в последний раз, в рамках отмеченного десятилетия, - в 1933-м году. Из иностранных врачей многократно говорил об атеросклерозе Ферстер. О. Бумке: «...Мало, что могу сказать... Не потому что профессиональная врачебная тайна обязывает молчать до сих пор (Ленин страдал тяжелым артериосклерозом), но потому, что Ленин уже был слишком болен, чтобы я мог составить собственное суждение». В характеристике окончательного диагноза Бумке полагается на Форстера. М. Нонне в своих воспоминаниях пишет, что «не было никаких данных» о прогрессивном параличе. «Несмотря на это, в литературе, посвященной Ленину (...) иногда можно встретить, что у Ленина был (...) «паралич». Следует отметить, что первоначально часть врачей колебалась в определении диагноза. Штрюмпелль: «...После обеда дома врачебная конференция. Постановка диагноза: эндартериитис люетика с вторичными очагами размягчения вероятнее всего. Но люес не несомненен (Вассерманн в крови и спинномозговой жидкости негативный. Спинномозговая жидкость нормальна...) Лечение, если вообще возможно, должно быть специфическим». Хеншен: «Совместно мы поставили диагноз хронический эндартериит с последующим тромбозом в головной мозг и некрозом наряду с афазией. Мои коллеги предполагали специфическую этиологию, которую автор, напротив, полагал возможной, но не вероятной. Вскрытие подтвердило диагноз автора». (Этим и некоторым другим сведениям зарубежной печати мы обязаны Г. Г. Суперфину в статье доктора В. Флерова в журнале «Грани», 1987 г.).
Микроскопическими исследованиями мозга Ленина занимался приглашенный из Германии профессор О. Фогт, который и в печатных выступлениях, и в домашних беседах отрицал «специфику».
Еще сегодня в московской медицинской среде помнят замечание одного из участников вскрытия: «мозг звенел», то есть сосуды его были в высшей степени заизвесткованы.
Таким образом, если во всеуслышание часть врачей и отступала от официального диагноза, то разве что оставляя в стороне последствия «чрезмерной мозговой деятельности».
Версия №3 («выстрел Ф. Каплан») в двадцатые годы имела хождение, как правило, лишь в провинциальной печати. В столице в траурные дни только В. В. Куйбышев, выступая на заводе бывшем Михельсона, там, где было покушение на Ленина, не мог не соединить первую и третью версии: «…В. И. Ленин подорвал здоровье и надломил окончательно силы в тяжкой работе по непростому управлению государством. Гнусное покушение на драгоценную его жизнь также сыграло роковую роль в развитии его болезни». Да поэтический оборот позволили себе один-два оратора, например, каменев на траурном заседании съезда Советов 26 января: «…Наш вождь погиб потому, что не только отдал по каплям кровь свою, но и свой мозг разбросал с неслыханной щедростью, без всякой экономии…».
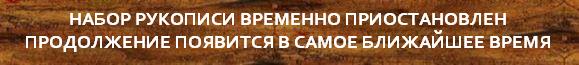
|
|
|