Текст печатается по изданию:
Журнал "Вокруг Света"
№ 6, 1951 г., стр. 31
На реке Чусовой
А. Бармин
Второе место после Камы по своей величине и экономическому значению занимает среди рек Западного Урала река Чусовая.
 Чусовая – самый крупный из притоков Камы. По красоте природы, богатству недр прилегающих к ее берегам районов и по своей роли в истории развития горнозаводской промышленности нашей родины Чусовая является одной из замечательных рек в Советском Союзе.
Чусовая – самый крупный из притоков Камы. По красоте природы, богатству недр прилегающих к ее берегам районов и по своей роли в истории развития горнозаводской промышленности нашей родины Чусовая является одной из замечательных рек в Советском Союзе.
Соединяя восточный склон промышленного Урала с уральской водной магистралью – рекой Камой, Чусовая на протяжении своего течения принимает более 150 притоков и значительное количество мелких ручьев.
До проведения железной дороги Свердловск – Молотов Чусовая служила главной транспортной магистралью для пятидесяти горнометаллургических заводов, расположенных в ее бассейне. По Чусовой продукция этих заводов вывозилась на Волгу и далее в центральные города страны. Кроме промышленных изделий, по Чусовой перевозилось и продовольствие – зерно, животные жиры и молочные продукты, спирт и другие товары, направлявшиеся в центр из Сибири. В середине прошлого века количество грузов, проходивших по Чусовой, достигало почти 300 тысяч тонн в год.
ИЗ ПРОШЛОГО УРАЛЬСКОЙ РЕКИ. – НА БАРКАХ-КОЛОМЕНКАХ
К пристаням на Чусовой в те годы по санному пути всю зиму свозились металл и прочие грузы. В устьях притоков Чусовой строились большие барки - коломенки. Около них на берегу складывались чушки чугуна, полосовое железо, медь, кули пшеницы, бочки сала и масла. Сотни коломенок ожидали вскрытия реки, тысячи бурлаков-сплавщиков собирались на пристанях. Еще с осени приказчики частных заводов ездили вербовать «на сплав» вятичей, чердынцев, пермяков, татар. Завербованным давали немного денег вперед или чаще уплачивали за них недоимки по крестьянским налогам.
К весне сплавщики брели на Чусовую пешком за сотни верст. Приходили еще по снегу и подолгу ждали на пристанях: за опоздание к сроку полагался штраф, а Чусовая со сроками не считалась и вскрывалась то в конце апреля, то в начале мая.
Самая отправка каравана проходила очень быстро – в один день, много в два. Как только ломался лед, суда спихивали шестами на воду и начинали грузить. Вот тут-то была спешка! Пропустишь высокую воду, которая идет сразу же за весенним льдом и тяжелые (около ста тонн) коломенки могут застрять на мели. Тогда груз задержится до будущего года… Поэтому барки спускали на воду и грузили до прохода льда.
Бывало, что глубина реки оказывалась недостаточной для каравана. Помогали сплаву, выпуская воду из заводских прудов на притоках Чусовой. Первой открывали плотину Ревдинского завода в верховьях Чусовой и держали ее открытой сутки. Когда вода перестала прибывать с притоков, открывали плотину Шайтанского завода, потом Билимбаевского и так далее. Так поднимали воду до нужного уровня на протяжении двухсот километров.
Освобожденные с причалов коломенки выходили «на струю» и летели по извивам Чусовой. Выпускали их с промежутками в двести-четыреста метров, но чем дальше, тем больше присоединялось новых коломенок, и, наконец, они шли в такой тесноте, что чуть не задевали одна другую «потесями» - бревнами, служащими для управления баркой вместо руля.
Лоцман стоит на носу барки и напряженно вглядывается в даль. Криком и взмахом руки он дает команду «потесным», их человек двадцать налегает грудью на потесь. Головы повернуты к лоцману, чтобы уловить, угадать каждое его движение. Повороты коломенки на ходу должны быть быстрыми и крутыми.
Чусовая вьется среди скалистых берегов. Она делает столько петель и изгибов, что в иных местах кажется не рекой, а продолговатым озером. Но в этом озере вода мчится со скоростью более двухсот метров в минуту!
Главная опасность для каравана заключается в том, что речной поток не всегда следует поворотам русла, а часто бьет с разбегу прямо в скалу. Надо молниеносно вывернуть коломенку из струи и обогнуть скалу.
А если поторопиться и слишком рано сделать поворот, – тоже беда: судно ударит в противоположный берег! Счет времени у лоцмана идет на секунды. Опасные места встречаются здесь на каждых трех-четырех километрах. Кроме скал, выступающих навстречу течению (их на Чусовой зовут «бойцы»), гибелью грозят «таши» - подводные камни, опасные обратные течения в местах впадения горных речек, водовороты.
До ста «бойцов» подстерегают караван в пути. В самой гористой части приходится по 1-2 бойца на километр. Вот имена наиболее опасных: Косой, Бражка, Узенький, Волегов, Кирпичный, Печка, Омутной, Высокий камень, Мултык, Писаный камень, Столбы, Молоков, Горчак, Разбойник… Каждый известен лоцману не только по имени – и норов реки у каждого камня лоцман изучил до тонкости. Капризен этот норов – сегодня один, завтра другой. Пролившийся несколько часов назад дождь способен изменить силу и направление течения.
Вот камень Молоков. Около него река кипит, вспенивается, и белая, как молоко, вода образует сильное течение поперек русла. Рев воды так оглушителен, что подать команду голосом нельзя – не услышат. Пересекать струю надо под самым камнем, иначе сходу унесет на утесы следующего камня. Только миновали Молоков, как на излучине возникает боец Разбойник, самый страшный из чусовских камней. Вдаваясь далеко в реку, навстречу струе, он поджидал барки, которым почти не оставалось времени, чтобы извернуться и проскочить дальше. Мимо разбойника пролетали обычно так близко, что можно было задеть его багром, а то и рукой. И не всегда пролетали. Иногда в один день Разбойник топил десятка два коломенок. Первая разбитая коломенка мешала поворотам других, напирающих сзади, и судно за судном налетали на утес.
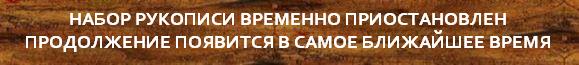

Обновлено:
6 сентября 2019 г.
|




