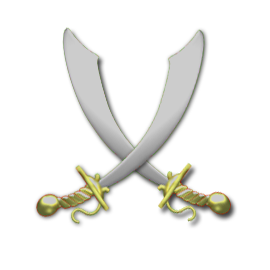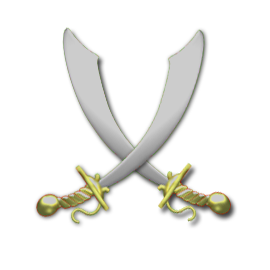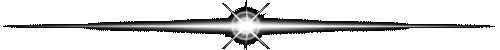|
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДВИЖЕНИЕ ВСЛЕПУЮ
Стр. 5.
Черная ледяная вода. После того, как раздался оглушительный взрыв, она плотно сомкнулась над его головой, навсегда отрезав дорогу назад. Он долго спускался вниз – на немыслимую океанскую глубину, и вода все сильнее давила в барабанные перепонки. Откуда же он здесь взялся, этот океан, когда до сих пор вокруг него была сплошная горящая от взрывов и выстрелов земля, изуродованная вдоль и поперек окопами?
 Обман, мой друг, обман, убеждал он себя, уходя на глубину. Тот, кто подстроил твою смерть, теперь специально посылают видения, чтобы усыпить тебя, и вот тогда-то ты и умрешь уже окончательно. Нельзя спать. Нельзя поддаваться видениям. Нельзя поддаваться той дрожи, которая постепенно – сантиметр за сантиметром – завладеет всем телом.
Обман, мой друг, обман, убеждал он себя, уходя на глубину. Тот, кто подстроил твою смерть, теперь специально посылают видения, чтобы усыпить тебя, и вот тогда-то ты и умрешь уже окончательно. Нельзя спать. Нельзя поддаваться видениям. Нельзя поддаваться той дрожи, которая постепенно – сантиметр за сантиметром – завладеет всем телом.
Он сделал над собой усилие и открыл глаза. Но вокруг по-прежнему оставалась чернота. Впрочем, он открыл один глаз – второй не открывался вовсе. А еще его тошнотворно покачивало и откуда-то снизу раздавалось мерзкое поскрипывание, от которого кожа мгновенно покрылась мурашками.
Потом он понял, что думал до сих пор почему-то по-немецки. Понял не сразу – для этого понадобилось, чтобы кто-то рядом заговорил на этом языке. Но это как раз его не удивило. Удивило то, что постепенно гортанная немецкая речь вдруг стала слышаться ему как чужая. Знакомые слова вдруг стали утрачивать свой смысл, и, чтобы разгадать его, нужно было напрягаться. А в голове теснились совсем другие слова – более мягкие и певучие.
Прошло еще очень много времени, целая вечность, - ровно столько, сколько требуется, чтобы перейти из одного мира в другой, - прежде чем Александр Бессонов, бывший ротмистр контрразведки бывшей великой Империи, с остро накатившей тоской понял, что болит все так потому, что он был ранен в том идиотски несвоевременном бою, темно – потому что вокруг ночь, глаз не открывается – потому что половина головы стянута бинтами, отвратно скрипит и покачивает – потому что его везут в телеге, а немецкая речь… Немецкая речь означала, что он теперь в немецком плену…
Впрочем, это-то как раз было не самым скверным, что с ним могло случиться. Уж с немцами-то он сумеет как-нибудь найти общий язык. Бессонов откашлялся и, с трудом ворочая языком, позвал:
- Эй! Кто-нибудь!
Солдатик, шедший рядом, вздрогнул, услышав с подводы, на которой везли тяжелораненых пленных, немецкую речь. И ведь это была самое что ни на есть родная речь, без намека на иностранный акцент, хотя и не без весьма нелюбимого в его краях берлинского выговора. Удивление его было столь велико, что солдатик шагнул ближе и, ухватившись рукой за борт подводы, склонился к замотанной бинтами голове раненого, который, судя по всему, и заговорил.
Это вы звали?
- Я… С кем говорю?
Повелительность тона опять-таки оказалась неприятна солдатику, зато заставила отвечать четко.
- Рядовой Гауфф, - отрапортовал солдат, только потом спохватившись, что отчитывается перед противником.
- Рядовой… Слушай, рядовой, бегом к своему начальству. Доложи, что мне срочно, слышишь, срочно нужно переговорить с кем-то из старших офицеров. Понял меня?
- Но…
- Исполнять!
Раненый в нетерпении мотнул головой, глухо застонал, и когда Гауфф вновь попытался заговорить с ним, стало ясно, что непонятный русак, подобранный на поле боя, вновь потерял сознание. «Ну и славно», - подумал Гауфф. Он вздохнул и вновь отошел от телеги. Однако тревога уже поселилась у него в душе, и едва конвой достиг пункта своего назначения, рядовой Гауфф, еще какое-то время поколебавшись, все-таки бочком подобрался к капралу Кюльману и разом выпалил:
- Господин капрал, осмелюсь доложить! Один из раненых дорогой пришел в себя и говорил по-немецки. Он требовал немедленного разговора с вышестоящим офицером. Я подумал…
А вот этого-то как раз говорить и не стоило. Это Гауфф понял сразу.
- Ах, вы подумали, рядовой! Подумали!..
Гауфф затосковал и, изображая служебное рвение, граничащее с идиотизмом, еще сильнее вытаращил глаза на плюгавого капрала, который едва доставал ему до плеча и, видимо, желая компенсировать эту недостачу, даже подпрыгивал от злости. Впрочем, зол капрал был всегда. Гауфф очень давно, еще у себя в деревне, пришел к выводу, что чем собака мельче, тем гаже у нее характер и тем она злее и кусачей. Капрал Кюльман, если бы стал собакой, наверняка был бы определен в прнчеры. На тонких трясучих лапках и с той же любовью облаивать все, что шевелится. И глазки такие же выпученные и злобные, с тоской подумал Гауфф и вздохнул.
- Что вздыхаешь, дубина? – продолжал надрываться капрал. – И как стоишь перед командиром? Я спрашиваю, как стоишь?
Помощь к бедняге подоспела с совершенно неожиданной стороны. На площади перед госпиталем, возле которого остановился обоз с ранеными, появились всадники. Гауфф сразу узнал их – впереди на великолепном гнедом ехал командир полка полковник Лемке. Кюльман, который стоял спиной к площади, появления начальства не заметил и продолжал орать. Его визгливый голос метался по площади, отражаясь от стен соседних домов, и каленой иглой воткнулся полковнику Лемке прямо в висок, который, надо сказать, и так болел самой что ни на есть невыносимой зубной болью после вчерашнего бурного вечера…
Вспоминать об этом было немного стыдно, и поэтому полковник, мгновенно сориентировавшись, обрушил собственное дурное настроение на болвана, который посмел орать в то время, как у него так сильно болела голова после бессонной ночи, проведенной над картами… Над картами предстоящего сражения. Да! И как он мог забыть, что все было именно так…
- Что здесь происходит?
Лемке рявкнул так зычно, что плюгавый капрал, отчитывавший рядового, даже присел от неожиданности.
- Не извольте беспокоиться, господин полковник…
Лемке с отвращением смотрел на кривоногую фигуру капрала и его неприятную физиономию. «На пинчера похож», - невольно подумал полковник и скривился. Его супруга очень любила пинчеров, и в доме всегда проживал целый выводок этих тварей.
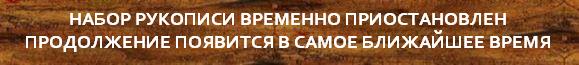
ГЛАВА 2.

|